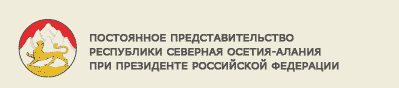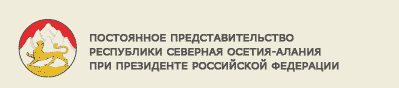Казалось бы, какая может быть связь между Северной Осетией, Бельгией и «Норильским никелем»? Как ни удивительно, самая прямая. В конце XIX века бельгийские горнопромышленники получили концессию на освоение Садонского месторождения цинка и свинца в окрестностях Владикавказа. Благодаря иностранным технологиям завод «Алагир», переименованный после национализации в «Электроцинк», и в советское время оставался одним из самых продвинутых в отрасли, поэтому в 1930-е гг. именно его специалисты были откомандированы на Таймыр создавать будущий «Норильский никель». А в 1996-2001 гг. «Норникелем» руководил Александр Хлопонин, который позавчера стал вице-премьером и полпредом на Северном Кавказе. О том, как все эти взаимосвязи влияют на жизнь в Северной Осетии, Глава республики Таймураз Мамсуров рассказал в интервью «Ведомостям».
— Вам доводилось встречаться с Александром Хлопониным до его назначения на Северный Кавказ? Бывал ли он в вашем регионе до назначения?
— Не знаю, бывал ли Хлопонин лично на Кавказе, но с нашими выпускниками [Северо-Кавказского горно-металлургического института] он на «Норникеле», конечно, общался. И мне с ним доводилось общаться как с губернатором. У него, несмотря на достаточно молодой возраст, огромный политический опыт, он умеет работать с людьми. Основательный, не верхогляд. Полпред на Северном Кавказе и одновременно вице-премьер — это большие полномочия. К тому же он будет работать напрямую с Владимиром Владимировичем [Путиным], а у него опыта по Кавказу точно хватает.
— В декабре 2009 г. вы подписали программу совместных действий по развитию добрососедских отношений с президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. В чем особенность этой программы? И как вы в целом расцениваете деятельность Евкурова на посту президента Ингушетии?
— По моим впечатлениям, Евкуров — честный боевой офицер, воспитанный в лучших традициях Советской армии. Предельно конкретный политик в отличие от тех политиков, кто считает за достоинство бесконечные разговоры и словоблудие. Мы встречались несколько раз и нашли взаимопонимание — в принципе, мы могли бы и не подписывать никакого соглашения. Но надо было зафиксировать наши договоренности в том, что касается постконфликтного существования наших республик. Реальность такова: было вооруженное столкновение, повлекшее за собой сотни жертв. Тот, кто эту войну развязал, растворился в истории, бог ему судья. Много судеб покалечено, появилась взаимная ненависть, в которой выросло, к сожалению, целое поколение. И есть реальная опасность, что, если мы, соседи, не будем открыто и честно общаться, кто-то опять в порыве борьбы за историческую справедливость может толкнуть эту молодежь к войне. Очень много хозяйственных проблем в том же Пригородном районе, накладывающихся на социальные противоречия: это самый густонаселенный район у нас в республике, в котором высокая безработица. А если у людей что-то неблагополучно, они начинают искать виновных — и находят их, как правило, рядом с собой. И мы с Евкуровым решили опираться на то, что нас объединяет, а над тем, что нас разъединяет, работать у себя на территориях: я — в Северной Осетии, а он — в Ингушетии. Это не какой-то эпохальный итоговый документ типа Хельсинкского соглашения, это рабочий практический документ, свидетельствующий о том, что наши народы могут жить в мире и добрососедстве, преодолевая имеющиеся невзгоды.
— Но ведь в программе речь идет о возвращении беженцев из Ингушетии в Пригородный район. А это несколько десятков тысяч человек.
— Дело в том, что все беженцы уже вернулись домой. [За счет прироста семей] их сейчас даже больше, чем до конфликта. А вопросы, кто куда едет жить, давно отрегулированы российской Конституцией: если человек хочет куда-то переехать и не видит в этом для себя опасности, пусть едет. В целом ситуация после конфликта уже решена. Сейчас наша задача — обеспечить работой и образованием в первую очередь молодежь.
— А где уровень жизни сейчас выше — у вас или в Ингушетии?
— О, это не мое дело. Читайте статистику. Чего нам заглядывать друг к другу через забор? Мне как политику хотелось бы, чтобы уровень жизни на Кавказе всюду был одинаково высокий. Контрасты надо убирать. Когда у соседа все нормально, ты и сам можешь спокойно работать.
— Вы упомянули безработицу в Пригородном районе — получается, что эта проблема и для Северной Осетии столь же актуальна, как для всего Кавказа?
— Да, она долгая, вечная практически. Даже при советской власти, когда многие производства не были экономически оправданны и существовали только для того, чтобы занять людей, даже в то время избыток рабочей силы на Кавказе был всюду. Поэтому люди ездили на работу в другие республики, на нефтепромыслы, в Тюмень, вахтовым методом работали… Слава богу, сейчас есть возможности для малого предпринимательства, фермерства. Но нужно и преодолеть психологический барьер, и иметь определенные гарантии со стороны государства, чтобы люди понимали: они — опора экономики, а не промышленные гиганты. Вот этого, к сожалению, до сих пор не удалось сделать. Да и высокие технологии не предполагают большого количества рабочих мест. У нас есть свинокомплекс, на котором раньше работало 1000 человек, а сейчас — 18, потому что все компьютеризовано. На мебельной фабрике такая же ситуация. Так что это самообман, что новые предприятия решают проблему занятости [на Кавказе]. Хотя мы их, конечно, создаем и будем создавать.
— В ноябре 2009 г. во Владикавказе были митинги с требованиями закрыть завод «Электроцинк», потому что он опасен для экологии.
— Да, был аварийный выброс на «Электроцинке», и люди в городе это почувствовали. Молодежь из движения зеленых выступила против этого дела — и правильно сделала, чего молчать? Немедленно были приняты меры: владельцы [Уральская горно-металлургическая компания, УГМК] сменили директора, уже три месяца работают над тем, чтобы такие вещи исключить. В конце концов, в XXI в. живем — технологии есть. Сейчас там работает комиссия Минприроды, которую Госдума направила; посмотрим, что они скажут. Что же касается закрытия завода, то это абсурд: в то время как мы говорим, что надо открывать новые производства, и даже [президент США Барак] Обама в этом смысле превратился в крупного коммунистического деятеля, конечно, закрывать «Электроцинк» никто не будет. Я, как инженер, считаю, что надо просто привести технологии в соответствие с требованиями экологии. А завод для России исключительный. Во время Первой мировой войны каждая вторая пуля, выпущенная из ствола русского солдата, была отлита из свинца, который делали у нас на этом заводе. То есть мы по истории нашей — металлурги, шахтеры… Попытались водочниками быть, но, хотя водка у нас и хорошая получилась, пользы для республики это не принесло. А металлургами мы были и будем. Будем улучшать технологии и открывать новые производства. Не только металлургические, конечно, — мебельное, текстильное, цементное, есть в республике такие проекты. У Осетии, как у территории для инвестиций, есть несколько важных конкурентных преимуществ. Издержки здесь ощутимо ниже, квалифицированный персонал дешевле. Мы, кстати, создали специальную группу сопровождения, которая помогает решать проблемы инвесторов на всех этапах, в том числе и после запуска бизнеса. Она работает вполне успешно — это мнение бизнеса.
— А местное месторождение цинка и свинца ведь уже выработано? Завод только на привозном сырье работает?
— Да, наше месторождение в значительной мере выработано, но современные технологии позволяют извлекать и те остатки, которые там есть. Но поскольку УГМК [которой принадлежит «Электроцинк»] обладает всей технологической и транспортной инфраструктурой, то уже и нет такой необходимости работать только на том сырье, что у нас под ногами. Но — еще раз повторю — у каждого народа своя судьба, своя историческая гордость. И «Электроцинк» [для Северной Осетии] — один из таких предметов исторической гордости. Норильский горно-металлургический комбинат [в 1930-е гг.] поднимали специалисты с нашего «Электроцинка». Сегодня наш горно-металлургический институт по прямым договорам поставляет специалистов в Челябинск, в другие металлургические центры. Так что мы — профессиональные горняки.
— Ну за это надо сказать спасибо бельгийским концессионерам, которые в конце XIX в. начали разрабатывать свинцово-цинковое месторождение в Северной Осетии и построили завод рядом с ним.
— Совершенно верно.
— А в Южной Осетии ведь тоже есть свинцово-цинковая руда?
— Да, с их стороны гор — такая же геоморфология, как у нас.
— Как у вас складываются отношения с Искандером Махмудовым, владельцем УГМК?
— Я с ним виделся всего один раз, когда компания отмечала десятилетие, познакомились наконец — хорошее впечатление он произвел. Ну а в основном у нас постоянные контакты с [гендиректором УГМК] Андреем Козицыным и его командой.
— А почему у вас водочниками быть не получилось?
— Помните, в 2006 г. были приняты решения о выпуске новых акцизных марок, но заказ на их изготовление не был размещен, и весь год мы провели без марок. Не хочу ни на кого грешить, возможно, где-то у кого-то они были — ведь пила же Россия водку все это время, — но у нас марок не было, и все заводы наши остановились. Естественно, потеряли рынок. Что им было делать? Я думаю, ушли на низкие объемы производства и делали что-то не очень законное. Мое твердое убеждение: водка, золото, алмазы, пушнина — это сверхприбыль. Но только у нас бюджет на производстве водки теряет огромные деньги. Если речь идет о качестве — наши водочные заводы технически оснащены как атомные подводные лодки: всюду кнопки, компьютеры, кандидаты и доктора наук в белых халатах. Они не могут делать какую-то паленую водку! И я за то, чтобы все производство спирта контролировалось государством — слава богу, сейчас правительство этим вопросом занялось по-настоящему. Если уж пьют — надо производить. Если производишь, то надо делать это качественно. А если вы, дорогие производители, продаете свою продукцию, делитесь сверхприбылью с государством. Никаких особых трудовых подвигов вы не совершаете, просто у вас есть хорошие современные технологии. У нас же вода дешевая, ее в отличие от других регионов не надо до ума доводить — прямо из земли чистая вода идет. Себестоимость поэтому у водки невысокая. Такие деньги можно зарабатывать! А где эти деньги?
У нас еще в 2007 г. объем поступлений акцизов в республиканский бюджет составлял около 830 млн руб., а потом пошло падение, по итогам прошлого года получилось всего 250 млн руб. В бюджет водочные доходы не попадают.
— Интересно, вы оценивали динамику доходов бюджета за те 4,5 года, что руководите Северной Осетией?
— Оценивал, конечно. Мы по валовому региональному продукту (ВРП) растем, по всем показателям — без рывков, но устойчиво, спокойно, ВРП за 2005-2008 гг. вырос на 30%. Кроме того, раньше об этом нельзя было говорить, но до признания независимости Южной Осетии все российские деньги для нее направлялись в наш бюджет. Пенсии, пособия, средства на восстановление экономики… Страна тратила огромные деньги, и все они шли через Северную Осетию. Наша дотационность, конечно, проглатывала и это, причем и в доходах, и в расходах, и получалось так: доходы — от федерального бюджета, а расходы — наши. Конечно, исторически так сложилось в нашем федеративном государстве — все регионы донорами быть не могут. Но, я чувствую, по нашим доходам нам еще есть куда расти — по всем источникам поступлений (по данным Федерального казначейства, доходы консолидированного бюджета республики за 11 месяцев 2009 г. — 15,1 млрд руб., расходы — 16,1 млрд руб., а за аналогичный период 2005 г. — 7,73 млрд и 10,7 млрд руб. соответственно. — «Ведомости»). И мы этим занимаемся. Нахлебниками себя не чувствуем. Неразумно высок уровень расходов на управление, по-моему, так что мы это поправим. Ну а так никаких провалов у нас нет. Депрессивным регионом Северную Осетию считать нельзя, да нас такими и не считают.
Тут ведь надо иметь в виду нашу социальную ситуацию. Наша республика — единственная на Северном Кавказе с низкой рождаемостью. Один-два ребенка в семье — и все. Только совсем недавно рождаемость начала немного превышать смертность.
Мы — стареющая республика: из 700 000 населения 270 000 пожилых людей, и все льготники. Детей и молодых людей до 21 года — еще примерно столько же. И остается одна треть трудоспособного населения, которая должна две трети республики кормить. Учитывая, что мы самая малоземельная и густонаселенная республика [в регионе], это невозможно! И, кстати, тут возникает еще одна тема. Мы были и есть многонациональная республика, и русского населения у нас до 1989 г. было 30%. В это время население у нас было 600 000. Через два года стало 700 000, потому что из внутренних районов Грузии к нам переехали осетинские беженцы, и вот механический прирост осетин намного уменьшил процент русского населения, хотя фактически русских у нас меньше не стало. Так вот естественным образом такой прирост населения (на 100 000 человек) надо было бы ждать 50 лет. А у нас за год все произошло. То есть нагрузка на бюджет сразу в 50 раз выросла. Школы, детские сады, больницы, пашня… И мы выжили, несмотря ни на что. Хотя прибежали-то к нам не здоровые ребята и девчата — в основном пенсионеры, которые сразу на учет встали, да с маленькими детьми. Это я не для того, чтобы разжалобить кого-то, рассказываю — просто чтобы была понятна реальная ситуация.
— После того как Россия и еще три государства признали Южную Осетию, угроза стабильности в Кавказском регионе уменьшилась или увеличилась?
— Угроза стабильности была до тех пор, пока Южная Осетия находилась в объятиях руководства Грузии. 20 лет полной изоляции и блокады экономической, 20 лет издевательств. И это, конечно, не могло не сказаться на настроениях населения, на том, как оно работает. Ну да, за 1,5 года после признания Южная Осетия не расцвела — а как она расцветет после стольких лет такой жизни? Туда пришел российский бизнес, москвичи, но быстро там ситуацию они не изменят. Для нас важно, чтобы как можно быстрее в Южной Осетии наладилась жизнь и все стало так, как и должно быть в нормальном независимом государстве. Там все станет на свои места и заработает марксизм в полном своем объеме…
— Марксизм?!
— Да, сейчас же по всему миру бросились Маркса читать, а то никто не знает, как с этим кризисом справиться. (Улыбается.) Труд сделает человека благородным, он начнет менять способы производства, меняться сам. И все будет хорошо. Интеллектуальный потенциал там очень мощный, много образованного народа, в том числе и тех, кто сейчас находится за пределами республики. Им тяжело, очень трудно, человеческий материал очень сложный. 20 лет — это же целое поколение. Оно не знает, что такое созидательный труд, как это — выйти в поле и что-то сеять, оно привыкло к тому, что в любой момент что-то может взорваться под ногами, а не к тому, что в доме должны быть газ, электричество, вода. В этих условиях выросли люди, это уже совсем другая молодежь. Пока там все — управление, технологии, средства — российское. Но долго это продолжаться не будет. Они должны сами вставать на ноги. Сейчас — с помощью России, конечно.
— До недавнего времени заседания правительств Северной и Южной Осетии проводились совместно. А сейчас как?
— Уже нет. Я им так и говорю: вы независимое государство, идите к Путину сами и разговаривайте. Я — часть своей великой страны, которая называется Россия, а вы — самостоятельная страна, которую Россия признает. Это что касается бюрократических отношений. А по-человечески мы один народ, поэтому, безусловно, стараемся помогать товарищам советом.
— Как вы считаете, почему в 2009 г. на Кавказе участились теракты?
— Я не знаю. У меня нет ощущения, что их стало больше. Не знаю, поймете вы меня или нет, но для меня понятия «больше — меньше» в этом вопросе не существует. Пока теракты как явление существуют, мне больно и тяжело. Мне лично не страшно, но страшно за саму ситуацию — гибнут ни в чем не повинные люди. За четыре с лишним года своей работы [по руководству Северной Осетией] я, беседуя с жителями республики, ни разу их ни в чем не успокоил. Наоборот, я им сказал: все может произойти в любое время. Все. Поэтому будьте бдительными, будьте осторожными. Но врать, что ничего не произойдет, я не могу. Таких гарантий никто дать не способен.
— Вы возглавили республику через девять месяцев после теракта в Беслане. Как для себя лично вы определили самое важное, что надо сделать в такой ситуации президенту республики?
— Я после Беслана сам изменился. И люди изменились, я видел. (Пауза.) Наверное, после интервью будете думать: «Вот нагородил», но все же… Поверьте мне на слово: мне показалось, что после Беслана люди станут добросовестнее, собраннее. И будут больше верить в то, что нам друг без друга нельзя. Беда, трагедия, ужас этот привели меня к таким мыслям. Ну вот, например, воровство бюджетных денег. Я так говорил своим коллегам, когда формировал правительство: вот вы, допустим, верующие — вы же должны понимать, что на том свете вам это не зачтется. Это же все равно как наркоман у бабушки-пенсионерки или у матери в кошельке возится! Нельзя этого делать. И нельзя брать взятки. Нельзя ставить человека в униженное положение только потому, что тебе сейчас должность это позволяет. Пусть он тебя боготворит потому, что ты гений! Пусть люди будут тебе благодарны за твой талант! Вот [Валерий] Гергиев — ему охапки цветов несут, что ли, потому, что он взяточник?! «Поймите, что мы руководим свободными людьми, — говорил я им. — И у меня, и у вас, и у мелких чиновников просто работа такая. Эти люди, которыми вы руководите, они вас кормят [за счет своих налогов]! Если вы еще садитесь на взятки, на воровство из бюджета и всякую такую фигню — зачем?! Вы же тогда, получается, просто дармоеды». И, мне казалось, после Беслана эти мои слова… ну на благодатную почву попадали, что ли. Потому что встревоженные люди после этого ужаса поняли: мы бессильны против такого зла, потому что сами злые по отношению друг к другу. И правоохранители ушами прохлопают, и эти [бандиты] над нами поиздеваются.
Я не уверен, что достиг своей цели. Но все-таки война в Южной Осетии показала, что наши люди способны, забыв про все на свете, оказывать помощь тем, кому сейчас тяжело. И это очень хорошо. За то, как у нас четко организовали эту помощь, надо просто шапки перед рядовыми людьми снять. Перед всеми этими водителями «Скорой помощи», врачами, милиционерами, гаишниками, всеми-всеми. Да и весь юг России как помог — за сутки все, что нужно, развернули… И, мне кажется, это после Беслана у нас так стало.
А вообще это и в отношении всей России можно сказать. И здесь, в Москве, и по всей стране люди так нам помогали! Я помню, одна бабушка тут пришла в больницу, где дети из Беслана лежали: у нас с дедом двухкомнатная квартира пустует — вот вам ключи от нее, родители же приезжают, а с гостиницами трудно, так вот пусть живут у нас. В Ростове в больнице, где 15 наших несчастных детей было, народ полный сейф одних денег только напихал и никто даже фамилию свою записать не позволил. А сколько еще таких фактов! Добрый и способный к сочувствию народ у нас в России.
— Федеральный центр после Беслана увеличил дотации Северной Осетии?
— Нет, такого не было. Честно говоря, вот сейчас, после вашего вопроса, впервые об этом задумался. А разве должен был увеличить? Помощь была огромная, от всех людей. За что мы всем искренне благодарны.
— Как вы думаете, острая фаза кризиса, когда люди в республике жили только бесланской трагедией, уже прошла?
— Я не знаю… Понимаете, сложно оценивать картину, когда сам являешься ее частью. Я же всю жизнь живу в этом городе. И, думаю, до конца жизни у всех, кто Беслан пережил, это останется. Хотя природа нас все-таки мудро устроила: с годами мы начинаем потихоньку принимать, что без этого нельзя, но надо… что-то такое происходит. Но я в этих делах не специалист, это пусть психологи разбираются.
— Официальное расследование теракта закончено?
— Нет.
— Почему оно уже пять лет тянется? Продлевали несколько раз, а никаких результатов нет.
— Не знаю! Независимая [следственная] система ведь у нас. Я свои показания дал, как и все наши, бесланские, теперь вот сидим, ждем.
— А что это была за серия покушений на чиновников в Северной Осетии в 2008 г.?
— Ох, это для меня удар был, как и для всех в республике. Никогда такого у нас раньше не случалось, совершенно нехарактерная история. Исполнителей вот, говорят, задержали, теперь осталось только заказчиков найти и мотивы их выяснить. А пока ничего не известно. Все мы, конечно, горазды свои версии выстраивать. Но, пока следствие идет, не хочу на эту тему рассуждать.
— Как продвигается строительство горнолыжного курорта «Мамисон»?
— Подвели туда электричество, коммуникации. Если бы не этот кризис, там бы начались работы — уже нашли австрийских и бельгийских инвесторов. Я образно так говорю: мы «Мамисон», как невесту, нарядили, и вот она стоит и ждет, когда придут сваты. В отличие от наших соседей это целина, там ничего нет, и там надо осваивать умно, в том числе с учетом европейских ошибок при освоении Альп, например. В мастер-плане курорта это все учтено. Но строительство нового курорта мирового уровня с нуля — очень финансовоемкая вещь, деньги большие требуются. Лет через пять только после того, как начнется строительство, там все заработает. Суммарный инвестиционный потенциал «Мамисона» оценивается в 30 млрд руб., объем вложений в формирование инфраструктуры комплекса — 3 млрд руб. (в 2007 г. Мамсуров оценивал общий объем инвестиций в 15,3 млрд руб., из которых более 12 млрд руб. предполагалось привлечь из частных источников. — «Ведомости»).
— То есть этот проект уже вашего второго президентского срока?
— Может, моего, а может, и не моего — кто знает. Все равно, кто бы республикой ни руководил, «Мамисон» он должен будет довести до конца. Причем это же не мы его нашли. Это французы на вертолетах летали над этими склонами, рассказали потом: мол, вы что ничего не делаете-то — у вас такое богатство под ногами?
— А вы как вообще — хотите дальше работать или устали уже?
— Я-то? Давно устал. (Смеется.) Ну как человек нормальный может рваться к работе? Даже тигр — что он, от радости бегает за этими антилопами, бедный? Надо — вот и бегает в поте лица. (Улыбается.) Дембельское настроение — самое лучшее, уже альбом надо склеивать и вырываться на свободу, пожить для себя. Но пока это решаю не я — буду выполнять то, что скажут, я в этом смысле дисциплинированный. А если вам кто-нибудь скажет: «Я хочу еще поработать губернатором», — не верьте. Значит, чего-то другого на самом деле хочет.
«Я в Беслане живу»
«У меня четверо детей. Вторая девчонка вот недавно вышла замуж, уехала к своему мужу в Усинск, за Полярный круг. Звонит, рассказывает, что у них там минус 45. Старшая диссертацию в Москве защищает в Академии госслужбы. Младшая в [Медицинской академии им.] Семашко учится. А пацан дома еще, в этом году школу заканчивает. Уговариваю его напрячься и в Бауманский [технологический институт] поступить, благо голова работает в ту сторону: он из ничего собирает тракторы, из газонокосилок пылесосы делает и вертолеты… Посмотрим, чем будет заниматься».
«Я в Беслане живу. В том же доме, что родились и я, и отец мой, и дед. На той же улице, среди тех же соседей. Вот с вами я курю, а дома на улице не могу курить, потому что там еще бабуси ходят, которые помнят, как я пацаном по этой улице бегал. Такие вот ограничения. Самый хороший город на земле. Теперь уже, правда, самый грустный… Но — мой родной».
Источник: газета "Ведомости"